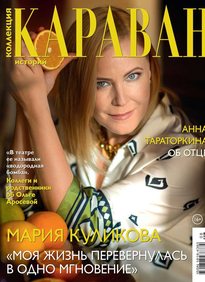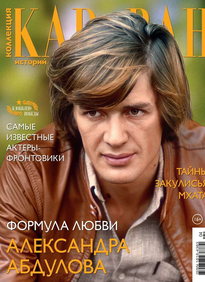«Отцу было, наверное, пять-шесть лет. Придя в один прекрасный день из цирка домой, он заставил бабушку, свою маму, сшить ему костюм клоуна. Еще сделали какие-то ботиночки с помпоном, и отец пошел в таком наряде к знакомой девочке на день рождения. Там кто-то из девочек был снежинкой, кто-то из мальчиков пиратом, а он был клоуном. Что надо делать? Надо делать так, чтобы все смеялись. А чтобы все смеялись, нужны какие-то трюки. А он в цирке видел, что, когда клоун падает, все смеются, ну и стал падать. Раз упал, два упал, три... Хозяйка спросила бабушку: «Он у вас припадочный?»
— Дело не в Юрии Владимировиче, а в том, что в принципе каждый настоящий клоун это опровергает самим своим существованием, своим предназначением. Что же касается фобии, которую вы упомянули, то она, думаю, прежде всего порождение американского кинематографа.
— Был еще и «Бэтмен», где Джек Николсон, совершенно блестящий, гениальный артист, великолепно сыграл отрицательного клоуна.
Впрочем, по большому счету, на мой взгляд, боязнь клоунов фобией назвать нельзя. Это ведь маска, определенный образ, который людям навязан. Ну кто такой клоун? В моем детстве, по крайней мере, это всегда было что-то светлое, что-то радостное, оптимистичное.
Знаете, отец рассказывал, как он со своим отцом часто ходил в цирк, и вот как-то за кулисами, в буфете, увидел клоуна, который сидел там в перерыве и спокойно ел сосиски.
Отец к нему подошел и заранее начал улыбаться. Ну потому что клоун же, вот и стоял, смотрел на него улыбаясь. А клоун поднял на отца глаза и говорит: «Иди отсюда!» И он, страшно обиженный, расстроенный, разочарованный, пошел жаловаться деду, а тот ему объясняет: «Правильно, в момент в буфете он не был клоуном, просто сидел в гриме. Это человек, ему надо было отдохнуть. Он устал от того, что на него все смотрят во время представления, а тут ты! Поверь, никто никак не хотел тебя обидеть».
— Как бы то ни было, но отец запомнил тот случай на всю жизнь и поэтому все время старался быть добрым вне манежа, чтобы не разочаровывать людей, которые к нему с чем-то подходят. Для него это была данность.
Однажды ко мне зашел Давид Яковлевич Смелянский, Додик — генеральный продюсер Московского театра Et Cetera Александра Калягина. И вот пришел и говорит, что шеф репетирует роль клоуна в спектакле «Король Убю» и обращается с необычной просьбой: очень хочет попробовать выступить на манеже. Мол, можно, это как-то устроить в цирке? Я отвечаю: «Давид, ни в коем случае, потому что Александр Калягин — блестящий актер, но тут он провалится. А это никому не нужно — ни мне, ни тебе, ни ему в первую очередь». Я знал, о чем говорил, уже был такой опыт.
Понимаете, ведь Калягин будет играть клоуна, а его играть нельзя, потому что манеж — особенное пространство, где фальшь сразу видна. На манеже клоуном надо быть.
Театр — другое дело, это условность, а цирк — абсолютная реальность. Когда человек начинает на манеже бутафорить, изображать из себя кого-то, тут же проявляется фальшь и провал неминуем. Манеж и цирк — это вообще такое по-настоящему уникальное пространство.
Приведу еще один пример. Рассказывают, что во время войны в цирке на Цветном бульваре был организован в поддержку фронта концерт мастеров искусств — таких корифеев, как Лемешев, Козловский, Русланова. Выступали они, понятно, в манеже. И... был полный провал. Все эти артисты не для такого пространства. Да, они всенародно любимые, но на манеже провалились, и кто-то из них, уходя, сказал: «Я больше в этот сарай ни ногой!» В манеже пространство реально диктует свои законы.
Да, клоун может быть жестоким, злым, но это уже не будет клоун, это какой-то другой персонаж, которого не надо называть так.
Кто-то из старых клоунов делил людей этой профессии на клоунов, артистов и ряженых, были такие три градации. Клоун — это клоун. Артист — тот, кто пытается быть клоуном, но не клоун. А ряженый — тот, кто надел на себя нос, ботинки и костюм и считает, что он клоун, и на это смотреть невозможно. Они и сегодня есть, но теперь их называют аниматорами. Это те, кто строит работу не на репризах, не на своем эго, не на таланте, а на каких-то гэгах, трюках, при этом они много работают, общаются с публикой.
Вот у Никулина и Шуйдина не было ни одной репризы с публикой, они с ней не заигрывали. Всего, к слову, у них было более 60 реприз — это невероятно много. Чтобы вы понимали, если сейчас у клоуна есть пять-шесть реприз, уже хорошо. Конечно, подсадка была, но это иное. Отец как-то ехал домой на троллейбусе и задумался, как же мало в мире клоунов, их всех, наверное, можно было бы посадить в десять троллейбусов! (Улыбается.) Сегодня, признаюсь, к сожалению, если брать настоящих профессионалов, хватит одного троллейбуса, да еще и места будут свободные.
— Отец с детства мечтал стать клоуном?
— Да, когда он впервые увидел их в цирке, его это поразило как громом.
Отцу было, наверное, пять-шесть лет. Придя в один прекрасный день из цирка домой, он заставил бабушку, свою маму, сшить ему костюм клоуна. Еще сделали какие-то ботиночки с помпоном, и отец пошел в таком наряде к знакомой девочке на день рождения. Там кто-то из девочек был снежинкой, кто-то из мальчиков пиратом, а он был клоуном. Что надо делать? Надо делать так, чтобы все смеялись. А чтобы все смеялись, нужны какие-то трюки. А он в цирке видел, что, когда клоун падает, все смеются, ну и стал падать. Раз упал, два упал, три... Хозяйка спросила бабушку: «Он у вас припадочный?» Вспоминая эту историю, отец говорил, что утром следующего дня у него все тело болело и он тогда навсегда понял: клоуном быть непросто.
Да, как и все мальчишки в то время, он хотел быть и пожарным, и милиционером, и пограничником с собакой, но тем не менее желание стать клоуном его никогда не покидало, периодически всплывало. Даже на войне, во время которой был артиллеристом-разведчиком и получил, к слову, медаль «За отвагу», это всплывало: ему постоянно хотелось делать жизнь других чуть легче, чуть радостнее. Он хохмил, рассказывал анекдоты.
— Чарли Чаплин, получается, не клоун, а комический артист?
— Да, это артист, киноартист, кумир моего отца, кстати. Он очень высоко его ценил. Выше Чаплина, думаю, никого не поставил бы. Невероятно разноплановый человек, которому одинаково давались и трагические, и комические роли или совмещение в одном образе и того и другого. Потому что «Огни большого города» на самом деле трагедия, и Чаплин там особенно блестяще сыграл финал, когда он спрашивает девушку: «Теперь вы видите?» Вот это умение быть одинаково гармоничным как в комических, так и в трагических сценах, думаю, сближало отца с Чаплином.
— Да, ведь быть клоуном — это не только уметь заставить людей рассмеяться, улыбнуться, правильно?
— Безусловно, это философия. Конечно, это свой мир, куда ты приглашаешь людей, и они теоретически должны становиться лучше, чище. Потому что клоун вне этой шелухи. Это добро, откровенность, открытость, без которых тебе верить не будут. Это милосердие. То есть все перечисленное должно присутствовать в каких-то пропорциях.
Говорю это к тому, что мечта стать клоуном должна в человеке находиться. Необязательно не спать ночи и думать об этом, но ей нужно присутствовать. И потом должно пройти какое-то время, человек должен вырасти, потому что юных клоунов не бывает, нужно пожить, что-то испытать, через что-то пройти, что-то в себе воспитать и заработать то, чем можно с другими поделиться. Для этого нужен определенный возраст. И нужно, чтобы звезды встали так, чтобы эта мечта воплотилась. Ведь у скольких людей она не осуществилась! Это же жизнь, она бросает туда, сюда.
— Получается, клоун — это не профессия.
— Ну нет, конечно, клоун — это артист. Не хочу никого обидеть, но все-таки он, наверное, немножко больше, чем артист. Потому что артист — лицедей. Он играет других людей, их жизни, переживает чужие судьбы, обстоятельства и прочее. А клоун — человек, который живет тем, что делает в манеже. Он не играет клоуна.
— Поэтому у Юрия Владимировича практически не было грима.
— А у всех, в общем-то, клоунов так. Какой грим был у Енгибарова? Практически никакого. Карандаш? Да, чуть-чуть мазочки, носик, одежда нелепая. Он еще маленький был, поэтому всегда обыгрывал свой рост. Да, когда перевоплощался в того же Геббельса, Гитлера, какие-то маски, усики себе делал, но это опять же образ, он играл другого. И у Олега Попова было в общем-то открытое лицо, грима минимум. Да, нос, но и у Никулина точка на носу, точки на веках. Это даже не для того, чтобы изменить облик, а сделать его менее стандартным, он же все-таки клоун — необычный человек, и для того, чтобы подчеркнуть какие-то свои мимические игры. Понимаете, он — дирижер.
Сегодня коверных клоунов не так много. Есть, конечно, молодые, очень талантливые ребята, но их мало. Потому что многие все-таки хотят все внимание брать на себя. А, собственно, зачем нужен коверный? Лишь для того, чтобы заполнить паузу, чтобы в манеже в это время убрали реквизит или поставили новый, чтобы что-то смонтировать или демонтировать на нем перед очередным выступлением. Короче, коверный клоун нужен, чтобы заполнить паузу своей репризой, своим номером.
Неслучайно клоунская гримерка всегда находилась рядом с манежем, потому что может случиться все, что угодно, и надо быстро выйти, взять внимание на себя, отвлечь от того, что происходит. Были случаи, когда артисты падали во время номеров, тут же выпускали клоунов. Или в моменты, когда в цирке начинался пожар, они выбегали, чтобы отвлечь.
— Такая роль — заполнять паузу, по-вашему, не оскорбительна?
— Абсолютно не оскорбительна. Это не обидно, это работа. Если сказать чуть громче — предназначение, вообще главная задача клоуна. В дореволюционной России на афишах даже писали отдельной строкой: у ковра такой-то или такие-то клоуны!
Oтец считал себя прежде всего коверным, ведь ковер цирка был его основным местом работы.
— Как Юрий Владимирович придумывал свои репризы?
— По-разному. Думаю, скорее всего, у отца была такая врожденная ассоциативность. Что-то приходило из анекдотов, что-то он увидел, а потом это всплывало и автоматически ложилось на какое-то манежное воплощение. Какие-то номера рождались из литературы — прочитанных книг, рассказов.
Он был уже заточен на то, чтобы все, что видит, слышит, как-то транспланировать затем на его цирковую профессию. Вот у них с Шуйдиным была реприза «Весы», которая появилась благодаря карикатуре в «Крокодиле». На ней стоял человек в кепке и держал в руках чаши весов, а подпись гласила: «Когда на рынке нет весов».
— Максим, какой же вы, полагаю, нанесли удар Юрию Владимировичу, когда решили пойти на факультет журналистики!
— Да не было никакого удара. Потому что наверняка родители не видели меня в манеже. Хотя бы потому, что в семье ни разу не было разговора, чтобы мне пойти в цирк, или предложений что-то этакое попробовать.
Отец никогда не заводил разговоров о продолжении династии. Скажу больше, его кто-то однажды спросил, почему он не берет учеников. Отец откровенно сказал: «Понимаете, учить — это отдельная профессия. Я этого не умею, не могу ничего никому передать».
Когда он вышел на пенсию, то сказал клоуну Семену Моргуляну: «Сень, я ухожу, репризы все остались, бери их, делай, репертуар же есть, проверен, реквизит имеется, никаких проблем». Тот стал пробовать, но у него не получилось. Потому что все репризы отца — авторские. Он делал их под себя, под свой темпоритм, образ. А когда человек работает в другой маске, в другом образе, самопроявлении, то это не ложится, неестественно получается.
— Юрий Владимирович выходил на манеж более 30 лет. Ушел на пенсию он в 60. Не рано ли? В чем была причина?
— Он так решил. Решил для себя, что 60 лет — это вполне достаточно, потому что... Нет, он не устал. Понимаете, пожилой человек в манеже вызывает жалость, а клоун должен вызывать смех. Когда же его жалеют, это уже совсем не клоун. И отец часто повторял фразу — не помню, чью, — что лучше уйти на десять лет раньше, чем на год позже. Закончил он свою карьеру, к слову, где и начинал — в Твери. После выступления устроили прямо в цирке общий банкет.
Он говорил, мол, думал, что слезы просто польются из глаз. А потом посмотрел на всех и сказал: «Господи, сколько народу, водки-то хватит?» Отвлекся так и не заплакал.
Отец не жалел, что ушел из профессии. Он другим немножко тяготился до того, как стал директором цирка спустя пару лет. Ему не хватало цирка в принципе, этого драйва, людей, постоянного общения.
— Он ведь не знал, что возглавит цирк на Цветном бульваре?
— Нет, ему это предложили. Причем предложили стать директором фактически закрытого, неработающего цирка. Он стал им в последний год работы, цирк закрывали на реконструкцию. И чем занимался отец в то время, так это в основном пробивал строительство нового здания.
Была большая компания заслуженных, действительно достойных людей, народных артистов, которые писали письма в правительство страны, что нужно восстановить цирк. Причем уже тогда было понятно: нужна не реконструкция, а надо просто сносить и строить новое здание, потому что никакой другой вариант был невозможен, там все разваливалось, проваливалось. Но власти без конца тянули с ответом.
В то время не до цирка было, все говорили: вы что, с ума сошли, чего вы хотите, откуда взять такие деньги? Тем более что отец требовал, чтобы строительство вела зарубежная фирма, финская. Когда его кто-то из членов тогдашнего правительства спросил: «А почему вы настаиваете на зарубежном строительстве? У нас есть хорошие советские компании», — Никулин ответил, что все правильно, есть хорошие и он их очень уважает, просто если мы кому-нибудь из них поручим это дело, то на премьеру пойдут дети наших внуков. Потому что тогда советский долгострой был притчей во языцех.
И вот люди постепенно отсеивались, и в конце концов остался один Никулин, который с настойчивостью маньяка проходил по этому кругу еще и еще. Его везде не то что отфутболивали, но вежливо объясняли: поймите, товарищ Никулин, сейчас, выражаясь интеллигентно, в стране кругом полная жопа, не до цирка.
И вот кто-то уже на четвертом или пятом витке всех тех злоключений ему сказал, что надо идти к премьер-министру Николаю Рыжкову, только он может решить вопрос, больше никто. Отец записался к Николаю Ивановичу. Любопытно, что по совету окружения премьера на прием он записался на вторую половину пятницы. Дело в том, что Рыжков с субботы уходил в отпуск и, как объяснили его помощники, у него должно быть особенно хорошее, благожелательное настроение.
Дирекция нашего цирка тогда находилась на Петровском бульваре. Нам там выделили три комнаты. Мы все сидели и ждали в тот день отца, с каким решением от придет от Рыжкова.
И вот пришел Никулин, сел за стол не раздеваясь, шапку рядом положил — у него такая привычка была. Сидит, и мы все сидим, смотрим на него. Отец выдержал хорошую мхатовскую паузу, поднял глаза и говорит: «Ну чего сидите, подписал!» И тут началось ликование, в гастроном, как водится, побежали...
— Максим, вы говорите, что Юрий Владимирович с пяти лет хотел стать клоуном. А его родители какое-то отношение к цирку имели?
— Они были театральными артистами. Бабушка служила в смоленском драмтеатре, а дед занимался режиссурой и еще был писателем-малоформистом. То есть сочинял скетчи, какие-то короткие истории, эссе, которые надо было пристраивать куда-то. Например, некоторые репризы он отдавал клоунам, так что с цирком отец моего отца был связан каким-то образом.
В принципе, дед же направил отца в цирковое училище. Он как-то увидел заметку в «Вечерке», что Московский цирк объявляет набор в школу-студию клоунов. Показал ее отцу, тот туда пошел, и его приняли. До этого он ведь пытался поступать в разные столичные театральные вузы, но нигде его не брали, говорили, что некиногеничен, неартистичен.
Правда, когда отца приняли в цирковую школу-студию, домой вдруг позвонили и сказали, что он принят и в студию Театра Пушкина. Возникла дилемма: куда же пойти? Все обсуждалось на семейном совете. Дед тогда сказал: «Ты знаешь, я бы выбрал цирк. В театре все-таки очень многое зависит от режиссера, а в цирке больше свободы». Так отец и выбрал.
— Вы с ним были близки, тесно общались?
— Мы мало общались, к сожалению, тесно, но мало. Честно говоря, за три года работы в цирке я его узнал больше, чем за всю прошедшую жизнь. Родителей не было со мной, они постоянно находились на гастролях.
— Мама с папой ведь в цирке познакомились?
— Да, Карандашу сказали, что в Тимирязевской академии на конюшне родился очень смешной жеребенок-карлик, и он решил его использовать в цирке. Ничего из этого, правда, не получилось — по разным причинам. Но дело в том, что к жеребенку приставили двух девочек из Тимирязевки, чтобы они за ним присматривали. И вот одна из них, Таня, отцу понравилась. Он с ней познакомился, пригласил к себе в цирк и в тот же вечер попал под лошадь дрессировщика Бориса Манжелли: лонжа запуталась, его затянуло, чуть не убило.
Девушка Таня чувствовала непонятную вину за случившееся. Поэтому, пока Никулин лежал в больнице, она его навещала. Так у моих будущих родителей все и завертелось.
— Знаете, вспомнил сейчас знаменитую фразу из «Кавказской пленницы», когда троица пьет квас и Вицин говорит, что жить хорошо, а Юрий Владимирович отвечает: «А хорошо жить еще лучше!» Вот у меня вопрос: сам Юрий Владимирович хорошо жил?
— Хорошо, конечно, хорошо. Я имею в виду не материальный достаток. Материальная сторона вообще была не его история, это точно не про отца. При этом другим, даже совершенно незнакомым людям, он всегда помогал. Вещизма же, фетишизма в нашей семье никогда не было.
Даже когда мы обитали в коммунальной квартире, жили действительно хорошо: очень весело, дружно, очень по-доброму. У нас всегда были люди, кто-то приходил. И потом, между родителями всегда царила невероятная любовь, работа, которая всегда оставалась любимой, и вторая работа, которая тоже была любимой.
Я имею в виду кино. Отец так всегда и говорил: «мое любимое кино». Но цирк, повторю, у него всегда оставался на первом месте. В нем, надо сказать, очень гуманно относились к отцовскому кинотворчеству. Ведь цирк — это, по сути, завод, конвейер, ежедневная работа, гастроли. А съемки всегда отвлечение, порой на месяц-два. Но руководство Союзгосцирка всегда готово было пойти отцу навстречу, потому что это шло как бы в общий зачет: вот, мол, видите, какой у нас великолепный цирк, наши артисты в кино снимаются!
То есть в цирке к работе отца в кино подходили с разумной расчетливостью. Не сложилось лишь раз, когда его не отпустили на съемки «Берегись автомобиля». А ведь он должен был играть в картине Юрия Деточкина — главную роль, под него был написан сценарий. Отец даже специально для этого научился машину водить.
История, рассказанная в фильме, реальная. Отцу ее поведал во время гастролей в Ленинграде кто-то из знакомых — то ли из милиции, то ли еще откуда-то. Действительно, был такой человек, которого подставили, на него навешали собак по хозяйственному делу, хотя он был ни при чем. Его посадили. Он отсидел и, выйдя, стал угонять машины и переводить деньги в детские дома.
Вернувшись в Москву, отец в компании рассказал эту историю Эльдару Рязанову. Тот говорит: «Юр, так это же готовый сценарий, мы с Брагинским садимся писать, главная роль — твоя». Они закончили сценарий, отец научился водить машину, но по каким-то причинам протянули с запуском съемок. А у отца гастроли в Японии, контракт подписан, японцы настаивают, чтобы Никулин и Шуйдин были обязательно. Поэтому-то все и переиграли, взяли на главную роль Смоктуновского. Я не знаю, каким был бы фильм, лучше или хуже, не мне судить и никому, но он получился бы совершенно другим, это однозначно.
— А всеми остальными своими фильмами Юрий Владимирович был доволен?
— Да. Единственное, ему не нравились «Старики-разбойники», он считал эту картину провалом.
Во-первых, была неоднозначная реакция, некоторым зрителям не нравился фильм до такой степени, что они писали ругательные письма, а его это всегда очень расстраивало, он трепетно относился к реакции людей, зрителей. Писали «вы погнались за деньгами, вы сами старик-разбойник». Я его пытался убедить, что всем фильм не может нравиться. Он отвечал: «Но ведь раньше-то все мои картины нравились абсолютно всем». Хотя, знаете, я недавно пересмотрел «Стариков-разбойников», его показывали по ТВ, — хороший фильм.
А что касается картин, которые ему нравились, то, если брать комедии, это, конечно, «Бриллиантовая рука», а из серьезных лент — «Двадцать дней без войны». Кстати, заместитель председателя Госкино Сизов был категорически против Никулина. Он даже тогда термин придумал — «дегенерализация». Мол, как так, на роль героя — военного журналиста вы берете некрасивого пожилого артиста, хотя есть масса молодых плакатных людей, которые могли бы сыграть Василия Лопатина, например вот Волков из БДТ. Константин Михайлович Симонов, автор сценария, пошел сначала в Госкино, потом еще выше, доказывал свою правоту. Ну, Симонов уже в то время был классик, и ему пошли навстречу.
Кстати, сыграть Лопатина отца уломал именно Константин Михайлович. Он чуть ли не каждый день приходил к нам домой и уговаривал его. Они подолгу сидели, вспоминали войну. В какой-то момент даже мама в сердцах заявила: «Если ты не сыграешь в этом фильме, я с тобой разведусь!» А Симонов, как-то уходя, сказал: «Юра, вы обязаны сняться в картине хотя бы в память о тех ваших боевых товарищах, которые не вернулись с фронта». Эта фраза окончательно заставила отца поменять свое мнение.
Вообще, фильм непросто снимался, там было все сложно, его закрывали. Но в итоге картина на самом деле получилась грандиозной, не так давно я ее пересматривал и вновь это понял.
— Из комедийных фильмов вы назвали «Бриллиантовую руку», а не «Кавказскую пленницу» все-таки?
— Конечно. В «Кавказской пленнице» у Никулина персонаж второго плана, как, впрочем, у всей троицы. Они там все на вторых ролях, хотя своим участием сто процентов попали в десятку. Но «Кавказская пленница» — это прежде всего Этуш, Мкртчян, Демьяненко, Варлей.
— У троицы отношения были, вы рассказывали мне, недружеские, так?
— Я бы не сказал, что недружеские, но они не были дружескими. По сути, между ними не существовало никаких отношений. Ну или скажем более дипломатично: были товарищеские отношения, которые распространялись только на время съемок. В жизни же их ничто не связывало, поскольку они оказались совершенно непохожими людьми, сделанными из абсолютно разного теста.
— Как Юрий Владимирович сам относился к своей внешности? Старея, на омолаживающие процедуры не ходил, уколы ботокса не делал себе?
— К своей внешности он относился совершенно спокойно.
Ну, ботокс тогда как-то не сильно практиковался. Хотя были институты красоты, и актерская элита, в основном дамы, конечно, какие-то процедуры себе делала. Отца же все это абсолютно не заботило.
— А вообще, как он выглядит, во что одет, это Юрия Владимировича интересовало?
— Нет. У него была пара-тройка костюмов, в которых он ходил. Галстук, к слову, так и не научился завязывать, в этом ему всегда помогала мама. Но галстуки, как и вообще официально одеваться, он ужасно не любил.
— В еде были какие-то особые предпочтения?
— Нет, отец был неприхотлив, но что, правда, очень любил, так это котлеты с макаронами, которые превосходно готовила бабушка, мамина мама, она жила с нами. Сам отец не готовил, этим занимались домашние — мама и бабушка, но каждый день он вставал первым, заваривал кофе и варил на всех яйца в мешочек. Это была по-настоящему серьезная семейная традиция.
Из алкогольных напитков предпочитал водку, вино не любил. К виски я пытался его приучать — не пошло. Он говорил: «Это не мое, эту дрянь не хочу». А водку — да. Знаете, когда мы уже работали вместе в цирке, где-нибудь раз или два в неделю он задерживался по своим делам. Так вот, бывало, в такие вечера звонит мне по внутреннему телефону и так официально приглашает: «Максим Юрьевич, зайдите ко мне». Я захожу, на столе салатик, еще что-то, две рюмочки, и отец говорит: «День тяжелый был, давай по рюмке выпьем». Ну, выпивали и ехали на дачу.
Никаких грядок у нас там не было, приезжали всегда просто отдохнуть. Отец любил дачу, но долго там находиться не мог, она начинала его тяготить, даже если приезжал туда, будучи в отпуске. Два-три дня, и все. Дальше его вновь тянуло в Москву, к работе.
— Расскажите, что значит быть сыном клоуна: когда отец заходил домой, начинался фейерверк?
— Нет, фейерверка не было, все шло достаточно ровно, тем не менее его появление сразу все меняло. Вокруг отца была некая магическая аура, он обладал уникальной энергетикой доброты, оптимизма, открытости.
Это не значит, что брызгал весельем, без конца отпуская налево-направо шутки-прибаутки. Что-то его огорчало, расстраивало, бывали моменты, когда к нему лучше было не приставать, когда ему нужно было посидеть, отойти, успокоиться, может, после какого-то неприятного разговора. Но в депрессию он точно никогда не впадал, даже осенью, как это бывает у многих людей.
Оптимизм и юмор присутствовали в нашей жизни всегда. Я рос в невероятно доброжелательной, светлой атмосфере, которая царила в нашем доме. Конечно, между нами бывали конфликты, возникали споры по тем или иным поводам. Но отец старался гасить любое напряжение, мог мгновенно разрядить обстановку репликой, каким-то анекдотом, и ситуация сразу с отрицательной менялась на положительную.
В свободное время он читал, телевизор смотрел, правда, редко. Пасьянс раскладывать любил. Они с мамой и сами много читали, и меня заразили этим. У нас была большая библиотека, три или четыре тысячи книг, причем самых разных. В какое-то время вся семья вдруг подсела на научную зарубежную фантастику, все эти издания родители собирали. Тогда это было непросто, книги издавались маленькими тиражами, доставали их с огромным трудом через знакомых.
— Машину Юрий Владимирович любил водить?
— Да, как, кстати, и мама. Автомобиль они приобрели, когда оба получили права. Это была «Волга», ГАЗ-22. Они же на ней ездили на гастроли, если это было не особо далеко. А если ехали на дальнее расстояние, то менялись за рулем через каждые сто километров. Отец, к слову, быструю езду не очень любил, больше это касалось мамы. В последние годы он уже ездил, конечно, на персональной машине.
— Иностранными языками владел?
— Нет. Мама знала английский, даже занималась переводами, у нее вышло, например, несколько переводов Эрла Гарднера, известного американского писателя в жанре детектива.
— В каких странах большей популярностью пользовался наш цирк, сам Юрий Никулин?
— Да везде, во всем мире. Отец реально объездил весь земной шар. Самые длительные гастроли у нашего цирка прошли в Америке. Это был первый приезд советских артистов цирка в США и Канаду, и гастроли их длились семь с половиной месяцев. Знаете, своими валютными отчислениями советский цирк содержал весь Москонцерт. Тогда ведь были три основных выездных кита, которые в том числе доказывали преимущество нашей социалистической системы. Это цирк, Большой театр и наш спорт.
Сегодня же я практически единственный, кто имеет выход на зарубежный рынок, на зарубежных партнеров, цирки и фестивали.
— Вы имеете в виду азиатские, латиноамериканские, африканские рынки, учитывая нынешний поворот России на Восток?
— Почему? В том-то и дело — на весь мир. Артисты мои работают сегодня везде, меня зовут в жюри международных фестивалей, я приглашаю в Москву своих партнеров. Вот только что вернулся из Америки — из Далласа, куда меня пригласили в жюри циркового фестиваля. Я каждый год бываю на самом престижном цирковом фестивале в Монако, в Монте-Карло, который возглавляет принцесса Стефания. Мы давно дружим с ней и ее семьей.
Понимаете, мир цирковой, он очень небольшой, все друг друга знают, и, если тебя там нет, о тебе забудут через неделю. Тебя просто нет, если ты не работаешь. А работать надо. Почему? Потому что мои артисты на всех фестивалях выступают под нашим флагом и меня везде приглашают как представителя России. Цирк в отличие от того же спорта не политизирован. Уверен, это сегодня надо грамотно использовать.
Я вспоминаю газетные вырезки, которые хранил отец после гастролей в Штатах. Это было начало 60-х, только что случился Карибский кризис, поставивший мир на грань ядерной катастрофы, шла махровая холодная война. А советский цирк приезжает в столицу США, и газета The Washington Post в день премьеры на первой полосе дает заголовок: «Еще 45 советских шпионов приехали в Вашингтон». А когда через месяц наши артисты уезжали, та же The Washington Post написала в редакционной статье, что 45 советских артистов за месяц гастролей сделали больше, чем смогли бы 45 дипломатов. Цирк — искусство, понятное всем, он вне идеологии, вне политики, вне всего. Неслучайно один из руководителей КНР Ху Цзиньтао во время встречи сказал мне, что цирк — это часть великой национальной культуры Китая.
К сувенирам у нас в семье все как-то были безразличны, а вот одежду, учитывая, что в стране тогда практически ничего нельзя было купить, конечно, отец из-за границы привозил. Могу сказать, что первые джинсы Levi’s у меня появились классе в пятом.
— У Юрия Владимировича был свой кабинет в квартире?
— Нет, кабинета не было, потому что, когда мы из коммуналки переехали в 70-е годы в квартиру, в ней было три комнаты. В одной находились родители, в другой мы с бабушкой, а третья комната — гостиная.
Знаете, с моей точки зрения, его успех — даже в большей степени в кино, чем в цирке, но и в цирке в том числе, — был в том, что он никогда не играл. Мы с этого начали, что актер — лицедей, он играет и проживает другие жизни. Но бывает, что человек не играет и даже не проживает чужую жизнь. Неважно где — в манеже ли, на экране, на сцене, — он ведет себя так, как вел бы на месте вот этого придуманного подчас персонажа в придуманных обстоятельствах. Это высший пилотаж — именно жить, оставаться самим собой в поставленных условиях, в этих декорациях, в этом интерьере или манеже.
Что хочу сказать: и клоун Юрик, и майор Лопатин, и Балбес, и Семен Семенович Горбунков — все Юрий Владимирович Никулин, то, каким он был. В них все его, человеческое. Но, конечно, он не был таким простым, наивным, недотепистым, как порой казалось. Хотя говорят, что наивность — это не глупость, а признак чистоты души, неважно. Внутри отца много чего было. Я это чувствовал. Это, наверное, даже больше, чем знать, понимать. Хотя некоторым вещам приходилось учиться. Знаете, у него было крайне доброжелательное, открытое отношение к людям, многие этим пользовались. Но была и другая черта: он не мог терпеть, когда его обманывают или предают, что, в принципе, одно и то же. И если такое случалось — нечасто, но бывало, — этот человек просто для него переставал существовать. Это как в записной книжке: вычеркнул фамилию — и все, нет человека.
Помню, во времена нашей совместной работы в цирке мне однажды принесли довольно интересный проект, и я пошел докладывать генеральному, отцу. И вот он читает и вдруг говорит: «Здесь этот человек? Я не буду с ним работать». Я возражаю: мол, тебе и не надо будет с ним работать, ты даже видеть его не будешь. Отец отвечает: «Нет, мальчик, ты не понял. Если в проекте участвует этот человек, меня в нем нет». Я осознал, что все, точка, нечего даже еще что-то обсуждать. Вот до такого доходило.
— Юрий Владимирович с кем-то дружил?
— У него было три друга, с которыми он оставался близок. Они не имели отношения ни к цирку, ни к кино. Один из них, фронтовой товарищ отца, стал, например, в результате родственником — мужем маминой сестры, с которой он познакомился на свадьбе родителей.
Это были настоящие друзья, которым можно позвонить хоть в четыре утра. Помните, как Михаил Светлов позвонил ночью другу поделиться только что написанными стихами, а тот ему сказал: «Ты что, охренел?! Четыре часа утра!» На что Светлов ответил; «Знаешь, а я всю жизнь думал, что дружба — понятие круглосуточное». Вот те три друга отца были из этой серии, из круглосуточных.
— А из актерской среды с кем-то Юрий Владимирович поддерживал отношения?
— С Папановым. С дядей Толей они по духу были очень близки, друг к другу замечательно относились и встречались — с собачками гуляли вместе, потому что Папанов жил недалеко от нас. Очень тесно общался отец и с Ростиславом Пляттом.
С Андреем Мироновым? Ну, там был возраст другой, поколение, да и жизнь немножко другая. Но отношения с Мироновым при этом у отца были очень теплыми, открытыми, Андрей Александрович нередко заходил к нам. Одну встречу с Мироновым я запомнил особенно хорошо. Он пришел, но отца еще не было дома. Я завел Андрея Александровича к себе в комнату, где он сразу обратил внимание на книгу «Денискины рассказы», которую я читал в тот момент. Миронов взял ее со стола, открыл и стал читать рассказ «Слон и радио». Он делал это так искусно, что было дико весело. Я просто покатывался со смеху!
А как-то во время съемок «Бриллиантовой руки» моя мама проспорила Миронову бутылку коньяка. Дело было так. Мама говорит: «Андрей, твою песню «Остров невезения» из этого фильма будет петь вся страна, особенно диссиденты. Ведь это — пасквиль на Советский Союз». Он ей в ответ: «Татьяна Николаевна, вы ошибаетесь, вся страна будет петь Юрину песню про зайцев». Они не просто поспорили, а все оформили в письменном виде, четко указав, что на кону бутылка хорошего коньяка, а не коньячного напитка, который тогда тоже продавался в магазинах. Когда после появления «Бриллиантовой руки» отовсюду запели «А нам все равно...», мама при очередной встрече вручила Андрею Александровичу проигранную бутылку, которую они с родителями, по-моему, тут же и выпили.
Надо ли говорить, что и у Миронова, как и у Папанова, было потрясающее чувство юмора. Это, кстати, особый дар, который не у каждого имеется. Поржать и чувство юмора — совершенно разные вещи. Чувство юмора напрочь отсутствовало, например, у Олега Янковского, и он знал это. Не понимал анекдотов, удивлялся, почему людям смешно. При этом великолепно сыграл во всех фильмах Григория Горина. Отец любил повторять фразу одного из своих любимых писателей — поляка Станислава Ежи Леца, которую полностью можно отнести к Янковскому: «Если у человека нет чувства юмора, то должно быть хотя бы чувство, что у него нет чувства юмора».
А вот с Гориным они были абсолютно на одной волне. Неудивительно, что так много лет вели на телевидении юмористическую передачу «Белый попугай», где травили на всю страну анекдоты. Когда отца не стало, Григорий Израилевич признался мне, что программа стала разваливаться, все с трудом выдавливали из себя какие-то смешные истории, анекдоты, шутки. Хотя отец появился в «Белом попугае» не с первого выпуска, а лишь с третьего или четвертого. До этого его вели и сам Горин, и Аркадий Арканов, и Миша Боярский. Но когда пришел Никулин, все сразу отошли в сторону.
— Мне кажется, что у такого человека, как Юрий Владимирович, не могло быть врагов, завистников?
— Нет, завистники были. Таланту, конечно, завидовать бессмысленно. Но тем не менее это было, люди есть люди. Успешности завидовали.
— Но таких определенно был лишь мизерный процент, а так миллионы Никулина обожают. Ведь его появление на экране, в манеже, да где бы то ни было, сразу вызывает улыбку. Понимаешь, что тут будет классно, тут будет весело, смешно, интересно!
— Это правда. Знаете, бывая на Новодевичьем на могиле отца, не один раз наблюдал такую сцену. Подходит очередная группа, и экскурсовод говорит: «А вот это памятник артисту, клоуну Юрию Никулину». И люди начинают улыбаться. Казалось бы, они на кладбище, вроде такое скорбное место, а на лицах улыбки при одном упоминании имени Никулина, потому что они сразу начинают воспоминать его роли, созданные отцом образы.
У него было гораздо больше, чем чувство юмора, — в нем была огромная самоирония. А это очень редкое качество. Наверное, оно всем настоящим клоунам присуще. Потому что ведь важно, чтобы смеялись не над клоуном, а вместе с ним. Над тем, что он делает, что показывает, но вместе. А для этого нужно иронично к самому себе относиться, потому что не каждый согласится, чтобы над ним смеялись. Это такая серьезная вещь.
— Максим, вы сказали, что лучше стали узнавать отца, когда начали с ним работать вместе в цирке. А что самое главное, чему он научил вас в жизни?
— В его характере была черта, которую, думаю, невозможно в себе воспитать. Ей нельзя научить, с ней надо родиться, это, если хотите, дар божий. У отца не было так называемого второго плана, когда говорят одно, а думают прямо противоположное. Он всегда говорил что думал, не подстраивался ни под человека, ни под обстоятельства. Причем абсолютно одинаково общался со мной, с мамой, друзьями, коллегами, с дворником на улице, с шофером, с членами правительства, с президентом страны, наконец. Оставался естественным, самим собой в любой ситуации, не прибегал в жизни к специальной лексике, мимике, пластике. Эта честность, порядочность не могла не бросаться в глаза и тут же вызывала в людях встречное движение.
— Кто, по-вашему, мог бы сыграть Юрия Владимировича Никулина в художественном фильме о нем?
— Не знаю. Правда, понятия не имею. Я, во всяком случае, никого не вижу, честно говорю.
— Может, дело в том, что Никулина правда никто бы и не смог сыграть?
— Может быть. Понимаете, на самом деле такие предложения поступают, просят, в частности, разрешения на экранизацию его автобиографической книги. Я со всеми разговариваю, мне даже сценарий приносили. Но все что-то не то. Дальше бесед дело не идет, все глохнет.
Может быть, люди сами начинают понимать, что то ли не справятся, то ли это в принципе невозможно. Невозможно, потому что непонятно, на что опереться. Ведь в любом кино главное — это интрига. А в жизни Никулина интриг не было. Были разные отрезки в жизни отца, но ни один из них интригой, вокруг которой можно построить сюжет, не являлся.
Под интригой я подразумеваю какую-то точку, на которую можно было бы опереться и вокруг нее выстроить весь сюжет фильма.
Когда снимали, допустим, фильм о директоре Елисеевского гастронома или о Московском доме моды, вокруг них была куча интриг, скандалов. А здесь не за что зацепиться.
— И это мы говорим о клоуне, артисте, которого любила и любит вся страна. Парадокс!
— Честно говорю, и не потому, что я сын, а потому, что действительно не вижу другой личности такого калибра в нашей новейшей истории. Хотя есть столько хороших и разных актеров.
Думаю, дело в том, что Никулина любили и любят все же не только как артиста, а прежде всего как человека. Его доброта, человечность, искренность били через край. К сожалению, эти качества всегда в большом дефиците. Ведь чего не хватает людям, так это любви, сопереживания. Поэтому все к Никулину так тянулись. А он этой своей добротой со всеми охотно всегда делился.