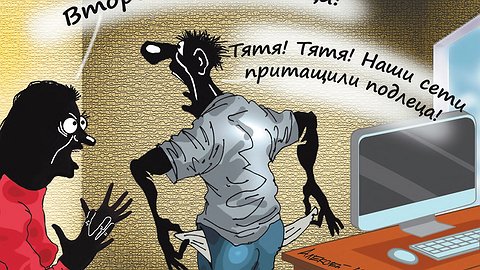ТОП 10 лучших статей российской прессы за Ноя. 6, 2025
Звонок — и вы разбойники!
Автор: Ева Меркачева. МК Московский Комсомолец
Продолжение беседы нашего обозревателя с членом СПЧ, профессором МГИМО, доктором юридических наук и главой «Белого интернета» Элиной Сидоренко. Во второй части разговора мы попытались разобраться, откуда берутся преступники? Благодаря чему в России сокращается число убийств? Можно ли остановить серийных маньяков? За счет чего получили распространение мелкие кражи? Об этом и многом другом — наш разговор.
«Последний шаг всегда за самим человеком»
— Элина Леонидовна, почему вас заинтересовала тема «преступления и наказания»? С чего все началось?
— Это началось на втором курсе, когда в нашу аудиторию зашел яркий профессор Григорий Иванович Чечель, о котором ходили легенды по всему юрфаку Ставропольского государственного университета. Среди студентов распространялись слухи, что он, будучи судьей, выносил очень много смертных приговоров каждый год. Мы его боялись.
Но когда он начал лекцию, харизма и любовь к предмету все изменили. В этот момент я навсегда влюбилась в уголовное право и заболела идеей «справедливости».
Мои родители — инженеры. Они мне долго пытались объяснить, что женщина и уголовное право — вещи несовместимые. Но я упрямо ходила на кафедру к Григорию Ивановичу и возвращалась домой с огромной сумкой редчайших научных книг, которые невозможно было найти ни в одном открытом доступе.
Для меня всегда была и остается принципиальной преемственность науки. Нельзя всерьез заниматься уголовным правом, не зная трудов Солнцева, Таганцева, Белогриц-Котляревского. Нельзя пытаться осмыслить природу преступности, не прочитав книги Беккариа, Ломброзо, Кудрявцева, Кузнецовой, Долговой и др. Без этого ты не исследователь — ты просто человек, пересказывающий чужие формулировки.
Григорий Иванович действительно был жестким педагогом. Но справедливость была для него не идеалом, а повседневной практикой. Если ты попадал в зону его уважения — он проявлял невероятную доброту, снисхождение, готовность поддержать. Но к лентяйству и поверхностности суждений он был нетерпим. Жертв его требовательности было немало.
И при этом он до сих пор работает. Ему 94 года, а он продолжает писать, консультировать, следить за развитием науки.
Как говорят у нас в науке: «Мы стоим на плечах гигантов». И если порвешь эту нить — потеряешь преемственность, — ты не просто теряешь историю. Ты теряешь саму возможность быть ученым.
— Ваше отношение к преступнику менялось на протяжении всего этого времени, что вы занимаетесь уголовным правом?
— Вот я сейчас я ловлю себя на мысли, что нет. Честно говоря, я ловлю себя на мысли, что эмоциональное отношение к преступности как таковой не изменилось: оно остается абсолютно нетерпимым. Я не романтизирую преступление, не оправдываю насилие, не смягчаю взгляд на зло. Однако с годами я все лучше понимаю преступника как объект анализа. Это не «злодей из фильма», а человек с определенной биографией, когнитивными паттернами, социальными связями и поведенческими привычками. И чем глубже это понимание, тем точнее становится наше прогнозирование — то, что в профессиональной среде называют поведенческим профилированием.
— Оно помогает правоохранителям?
— Профилирование — это не гадание и не интуиция. Это междисциплинарный инструмент, сочетающий криминологию, психологию и социологию. Мы собираем данные: от детства и уровня образования до круга общения, способов передвижения, привычек в быту. На их основе строится поведенческая модель, позволяющая предсказать, как человек будет действовать в стрессовой ситуации — например, после совершения тяжкого преступления. Важно подчеркнуть, что профилирование не заменяет расследование, но фокусирует его. Оно помогает сузить географию поиска, понять, будет ли преступник скрываться один или с сообщниками, как он может попытаться покинуть регион — и даже какую лексику использовать в обращении к нему через СМИ.
Расскажу случай. Несколько лет назад преступник после вооруженного нападения расстрелял людей и сбежал. По горячим следам возникло множество версий: возможно, у него есть подельники, он скроется в городе, попытается уехать на поезде или даже воспользуется помощью родственников. Но анализ его личности — включая социальную изоляцию, отсутствие близких доверенных лиц, привычку к автономности и склонность к использованию заброшенных или временно пустующих помещений — привел нас к выводу: он будет действовать в одиночку, проникнет в дачный дом и использует его как укрытие перед попыткой покинуть регион. И, покидая регион, билет покупать не будет, воспользуется грузовым транспортом. Так и произошло. Правоохранители сосредоточили усилия на дачных массивах и на поездах. Преступник был задержан именно в товарном вагоне. Этот случай показывает: понимание преступника делает нас более эффективными в защите общества.
— Вы не смотрите на преступника как на больного? Ведь тот, у кого все хорошо, уважает себя, других, соответственно, и общество с его правилами.
— Я бы не назвала это «болезнью», потому что в моем восприятии болезнь — это все-таки что-то мало от тебя зависящее.
— А если он родился и вырос в маргинальной семье, подвергался насилию с самого детства? Тогда это от него не зависело?
— Да, безусловно, тяжелое детство — насилие, маргинальная среда, отсутствие поддержки, пьющие родители — серьезные криминогенные факторы. Такие условия многократно повышают риск девиантного поведения. Но здесь возникает принципиальный вопрос: где проходит грань между влиянием среды и личным выбором? Я согласна: многое от человека не зависит. Однако именно в тот момент, когда индивид совершает преступление, будь то кража, убийство или мошенничество, — он переступает через социальный и правовой запрет. И этот шаг остается актом его воли.
Если мы начнем рассматривать преступление исключительно как «болезнь» или «продукт среды», мы рискуем лишить человека агентности — способности быть субъектом. А вместе с тем — и правовой ответственности. Это опасный путь.
Конечно, мы не должны игнорировать социальные корни преступности. Наоборот — их нужно изучать, чтобы предотвращать преступления на ранних этапах. Но в момент деяния человек остается творцом своей реальности. И если он нарушает закон — законный порядок мира, основанный на уважении к жизни, собственности и достоинству других, — он несет за это ответственность.
— Тут я с вами соглашусь. Но мы все — люди.
— И у всех людей, условно хороших и плохих, в принципе чувства одинаковые. Ненависть, страх, гнев, жажда признания, потребность в контроле — эти эмоции свойственны всем людям без исключения. Разница не в наличии чувств, а в способности управлять ими. Как писал еще Аристотель, добродетель — это не отсутствие страстей, а их умеренность и направление в социальное русло. У «хорошего» человека сформирован внутренний регулятор, который блокирует разрушительные импульсы. У преступника этот регулятор либо нарушен, либо сознательно отключен.
— Почему у кого-то снимается внутренний запрет на насилие или разрушение?
— Здесь возможны два основных сценария. Первый: запрет снимается как ответ на травму, унижение, насилие в детстве. Человек усваивает модель «сила — единственный способ выжить», и насилие становится для него инструментом, а не злом.
Второй сценарий: насилие доставляет удовольствие, чувство власти, кайф от контроля. Такое поведение характерно для лиц с выраженной антисоциальной установкой или патологической нарциссической организацией личности. В этом случае преступление не следствие страдания, а источник удовлетворения.
— Значит ли это, что преступника нельзя понять?
— Наоборот, именно потому, что мы можем понять, мы можем и предотвращать, и предсказывать, и, в ряде случаев, корректировать поведение. Но понимание — это не оправдание. Оно не отменяет ответственности, а делает наше вмешательство точнее и гуманнее. Преступник — это не чужой, это тот, кто мог быть с нами, если бы удержался на грани.
И задача науки и права не только наказывать тех, кто перешел черту, но и укреплять в обществе те институты, семейные, образовательные, правовые, которые помогают людям сохранять запрет, даже когда мир вокруг рушится.
— Кто они — преступники, совершившие насилие? Ведь не каждый может в принципе поднять руку на другого и тем более лишить его жизни. И вопрос «вдогонку»: почему у нас стало меньше убийств (в шесть раз, если не ошибаюсь, сократилось за последние годы)?
— Насильственный преступник — это не просто человек, способный поднять руку на другого. Это индивид, у которого нарушен базовый социальный запрет: «чужая жизнь священна». Такой акт требует специфической дезингибиции — подавления эмпатии, морального страха, инстинкта самосохранения (ведь насилие часто влечет ответную агрессию). Что касается сокращения убийств в России, здесь действительно работают нелинейные социальные закономерности. Одна из гипотез — «замещение видов преступности»: по мере роста экономической преступности (мошенничество, киберпреступность, коррупция) насильственные преступления снижаются. Почему? Потому что в более урбанизированном и цифровом обществе выгоднее обманывать, чем убивать. Агрессивная энергия перенаправляется в менее рискованные, но более прибыльные формы девиации. Это перекликается с теорией аномии Эмиля Дюркгейма: общество обладает своего рода «лимитом девиации» — при снижении одного вида преступности другой может компенсаторно расти.
— И он утверждал в своей «теории аномии», что девиантное поведение индивидуумов полезно в целом для общества.
— Был интересный опыт. Когда прибалтийские страны изъявили желание попасть в Европейский союз, они должны были сократить высокую насильственную «советскую» преступность. Прибалты стали активно бороться с ней и действительно пришли к хорошим результатам. Но в ответ на сокращение уровня убийств они получили огромное количество самоубийств. Анамнестическое общество — это живой организм, мы не до конца его изучили.
— Некоторые серийные убийцы на вопрос о мотивах отвечали примерно так: не видели причин себя останавливать. О чем это говорит?
— Серийные насильственные преступники — особая категория. У них минимален вклад социальных факторов и максимален — биопсихологический. Согласно новейшим исследованиям, у таких людей часто выявляются снижение активности в прифронтальной коре (центре самоконтроля и морального суждения); дисфункция зеркальных нейронов (что нарушает способность к эмпатии) и повышенный уровень импульсивной агрессии при отсутствии чувства вины или стыда.
Для них жертва не личность, а объект, «мешок с костями». А страх жертвы не вызывает сострадания, а становится источником гедонистического удовлетворения. Это не «ярость» или «месть» — это ритуализованное удовольствие, сравнимое с зависимостью. Именно поэтому угроза наказания на них не действует: тюрьма для них — не устрашение, а временная пауза в удовольствии.
— Правда, что ими движет желание получить удовольствие?
— Да. Возьмем обычного человека, который знает, что получит удовольствие, съев мороженое во время стресса. Но он терзается сомнениями — вроде он на диете, худеет и т.д. Он ведет с собой диалог. Так вот у серийника убийство — это такое же удовольствие, как мороженое, с той разницей, что диалога с собой у него нет. У него нет ценностного восприятия человека, он не видит его и себя в системе социальных координат. У него стыда нет, чувства вины нет.
— Можно ли предотвратить появление серийных убийц?
— Полностью пока нет. Но наука делает шаги. Если в будущем будет идентифицирован генетико-нейробиологический маркер повышенной несдерживаемой агрессии, как предполагает профессор Юрий Антонян, это может открыть путь к ранней профилактике — не через карательные меры, а через нейрокоррекцию, терапию, социальную интеграцию.
Однако важно помнить: биология не приговор. Даже при наличии предрасположенности решающую роль играет среда. Многие с высоким риском агрессии становятся хирургами, военными, спасателями — там, где разрушительная энергия трансформируется в социально одобряемую активность.
По моему крепкому убеждению, задача общества — не искать «монстров», а создавать условия, в которых даже самые сложные личности не превращаются в убийц. Потому что, как показывает история, страшнее всего не то, что человек способен сделать зло, а то, что общество не замечает, как он к этому идет.
Коментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.